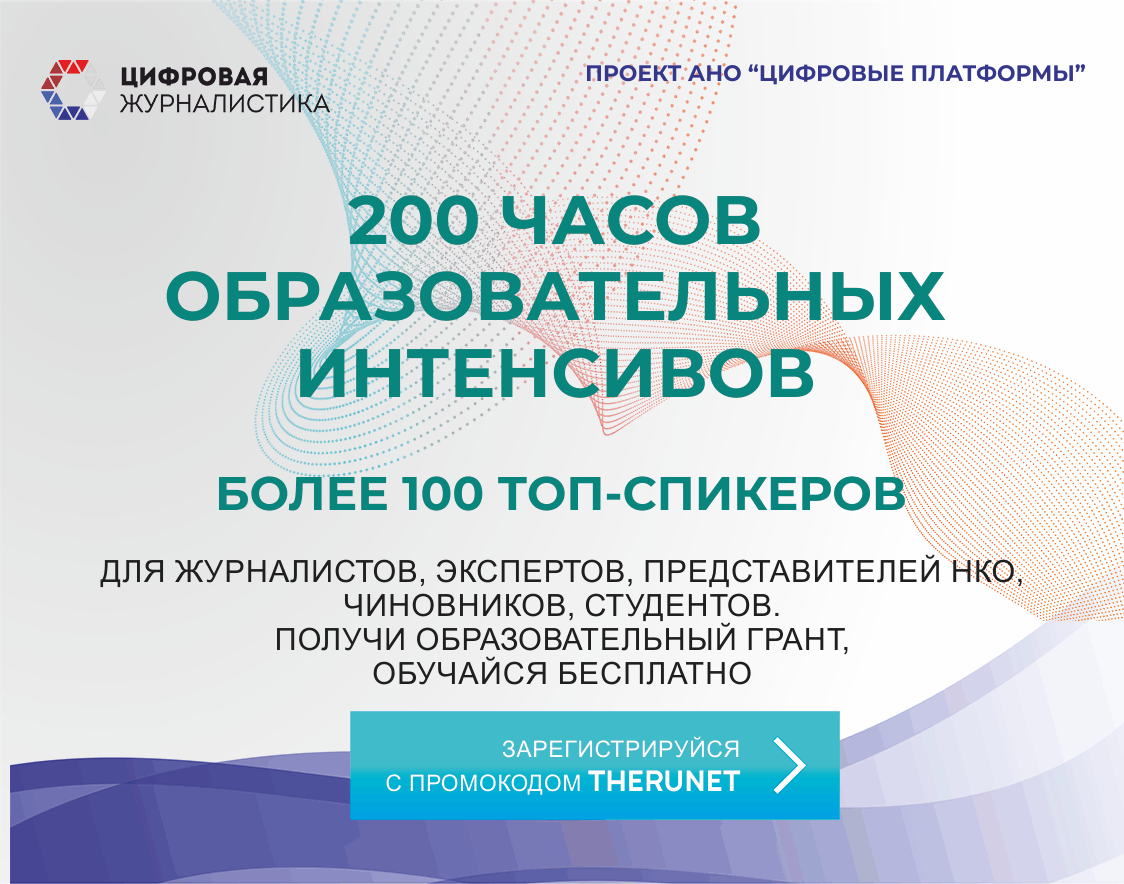Государственная Дума в третьем чтении приняла «бесспорный» закон, который, конечно же, утвердит Совет Федерации и, конечно же, подпишет Президент. Суть — пополнить перечень «бесспорных» поводов для дополнения списка «запрещённых сайтов» пунктом, который признает «запрещенной» информацию о жертвах преступлений — несовершеннолетних гражданах.
Что мы видим в этом? В первую очередь: ну, мол, что уж такого ужасного? Нет, сам по себе этот «чёрный список» —
Начнем с того, что законы, вообще то, пишутся не потому, что вчера или на прошлой неделе произошло нечто, что взволновало депутатов или
В связи с этим довольно двусмысленной выглядит позиция нашего парламента, который сначала принимает закон о запрете усыновления (антигуманный по сути), а теперь, вдруг, озаботился защитой прав несовершеннолетних потерпевших.
Но сначала о целесообразности, о нужности этого закона. В законе «О средствах массовой информации» уже существует запрет на публикацию в СМИ данных о потерпевшем ребенке. То есть средство массовой информации фамилию жертвы не опубликует. А кто тогда?
Так для чего этот закон?
Мне кажется, что ровно для следующего. На сегодняшний день правом блокировать (а потом разбираться) сайты имеют Роскомнадзор, Роспотребнадзор и Госнарконтроль. Вероятно,
Еще пару моментов, уже по сути нововведения.
Конечно, удивительно, что запрет на публикацию данных потерпевшего ребенка включают в закон «о защите несовершеннолетних от информации…» Мне кажется, что это уж никак не предмет регулирования данного закона. Никаких детей от информации тут не защищают, защищают потерпевшего и не от информации, а от публикации его личных данных.
Вообще то, и сегодня данные предварительного следствия являются секретом, и разглашать их нельзя. Неужели следователь или дознаватель, который регулирует распространение информации о следствии или дознании, не в состоянии просто не допустить распространения такой информации? В состоянии, и механизмы есть, и закон УЖЕ позволяет это делать. То же касается и судьи — в его силах сделать процесс с участием несовершеннолетнего потерпевшего закрытым. И чаще всего — так и делают.
Но в УК никаких изменений не вносится. Почему? Потому, что тогда нужно было бы спросить, как минимум, профильный комитет Госдумы, да ещё и заключение Верховного суда. Наверняка, депутатам бы напомнили: всё есть и так, никаких дополнительных регулировок не требуется.
Зато указанный закон, по сути, вводит очень серьёзный элемент, ещё более затрудняющий доступ граждан к правосудию. Поясню. Вообще то, в случае уголовного дела есть не только потерпевший (пусть и несовершеннолетний), но и подсудимый, например.
Конечно, можно встать на позицию, что у нас зря не сажают, но практика показывает, что сажают — и ещё как. И в случае, если потерпевший — несовершеннолетний, эта статистика ничуть от остальной не отличается: «взяли» — значит виноват уже заранее.
Если запретить публиковать и делать достоянием общественности любые данные о потерпевшем, то это ограничивает и без того незначительный «арсенал» защиты.
Приведу пример почти из моей практики, но, разумеется, с измененными данными. Школьница, дочь очень строгого отца, представителя древнего кавказского рода, получает по физике «кол» от
Вскипела быстро кровь и заявление в милицию появилось в течение получаса. Отец бушевал, девушка скромно сидела, поджав губы и скупо рассказывала, что учитель «трогал» её на перемене в помещении лаборантской…
С учителя даже успели взять подписку о невыезде (слава богу, не СИЗО)… Спасла его — только не смейтесь — одноклассница, записавшая откровения «обиженной» девушки (разумеется, потерпевшей), где та в женском туалете школы хвастается, что «прищучила» учителя за «кол». Запись попала в социальную сеть, а оттуда — на стол следователю.
Уголовное дело прекращено, заявление отец забрал, девушка перешла в другую школу.
Если бы дело было после вступления в силу указанного закона, думаю, запись бы удалили. Как удали ли бы другие свидетельства издевательства над детьми, то тут, то там возникающие в интернете (помните, одноклассники били девочку?). А ведь в большинстве случаев именно огласка привела к тому, что дело не «замяли».
Жертва преступления, конечно, жертва, её жалко, её хочется оградить «от всего этого». Понятная позиция.
Но потерпевший — ещё и участник уголовного судопроизводства, представитель стороны обвинения. А человек, по заявлению потерпевшего оказавшийся на скамье подсудимых — до решения суда ещё ни в чем не виноват. И, вообще то, не должен доказывать свою невиновность, а, напротив, разбивать доводы стороны обвинения, потерпевшего в том числе. Процесс (конечно, в теории, в законе — а в не в практике районного суда в России…) должен быть состязательным. Стороны должны иметь равные права на доступ не только к судейским ушам, но и к обществу.
Не только потому, что общество тоже влияет на судей. Но и потому, что суд, в сущности, судит от имени народа: первые слова каждого приговора «именем Российской Федерации», высшей властью в которой является народ. Так вот получается, можно ещё до суда «вывалять в дёгте и перьях» обвиняемого (чем и занимаются спикеры следственных органов, смачно рассказывая, каких «злодеев» им удалось задержать, ещё до суда и до установления вины), а потерпевшего (который тоже может быть не ангелом) — не тронь. Если это врушка
Ну, и последнее. На самом деле, всегда найдётся информация, которую
Дорогие мои, во всех случаях, когда дозволительно
И свобода слова (то есть свобода высказаться, неподцензурно высказаться) не может быть ограничена до того, как высказывание прозвучало. Единственный применяемый во всем мире метод ответственности — последующее наказание. Может быть, серьёзное, может быть не очень — но наказание за причинение реального вреда, в том числе морального.
«Детская» тема, возникшая пару лет назад, как тренд объяснения любых ограничений в нашем государстве, применяется с успехом и в данном случае. Но, в сущности, какая вам разница, под каким соусом вводится цензура?
Каким соусом не поливай — «рыба» с тухлецой…